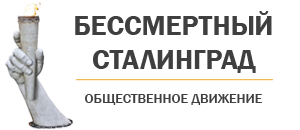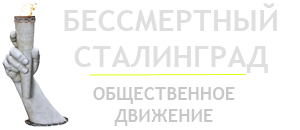Геннадий Овчинцев
Смелого пуля боится
Рассказ
Начало войны для нас, тогдашней мелюзги, было понятием очень отдаленным. Правда, кто постарше, обзавелись деревянными пистолетами, ружьями и даже гранатами. В свои военные игры девчонок и мелкоту не брали, лишь за некоторым исключением, и то в роли фрицев. Нас окружали, заставляли поднимать руки и «расстреливали» на берегу. Ну, а кто не хотел падать, его больше в игру не брали.
Я приходил домой и жаловался маме на свою жалкую роль, но она мой серьез не принимала и отшучивалась:
— Все равно война скоро окончится, и тогда ты не пустишь их кататься на своих качелях.
А качели у нас действительно были отменные: из цельного стального листа отец изготовил точное подобие небольшой лодки на прутковых подвесках и подшипниковых опорах. Люда, моя сестра, почему-то всегда называла себя штурманом, а меня юнгой, а остальные – матросы – стояли в очереди и по двое садились на дно лодки.
Приближение войны Сталинград почувствовал впервые, когда в начале 1942 года немецкие войска прорвались к Дону. Город наполнялся военными, ранеными, все чаще и чаще громыхали составы с солдатами и военной техникой.
А однажды во время наших очередных мальчишеских «баталий» появился самолет. Он летел очень низко и по форме не был похож на наших любимых «кукурузников». Кто-то из ребят запел обычное:
— Самолет, самолет,
Ты возьми меня в полет…
Но вдруг все отчетливо увидели на крыльях немецкие кресты. От неожиданности вояки оцепенели, и только один решительно поднял в воздух свой деревянный автомат и прострочил языком:
-Тра-та-та-та!
Как будто испугавшись, вернее, встретив такое неожиданное сопротивление, самолет ретировался и быстро исчез из вида.
А строчивший из автомата долго рассказывал, как он чуть не подбил фрица. Все смотрели на него зачарованно и с завистью, как на истинного героя.
С этого дня фашистские «рамы» нагло, без опаски, кружили над городом. После нескольких таких разведывательных полетов произвели пробные бомбежки, но до нас взрывы дошли приглушенными, как далекие раскаты грома, да и, как оказалось позже, значительных повреждений не принесли. Пришедший с работы отец рассказал о первой бомбежке на заводе «Баррикады».
— Ну, Раечка, — сказал он матери, — поздравь с первым боевым крещением. Опять сегодня прилетала «рама», кружила–кружила, как прошлый раз, высматривала что-то и вдруг сбросила несколько бомб. Сначала мы не поняли – летят какие–то мячики, а потом догадались, что это такое, и бросились на землю, кто где стоял. Шума было много, земля ходуном заходила, и уши заложило до глухоты, а вреда мало – все бомбы угодили на угольный склад. А ведь совсем по соседству на площадке погрузочного двора готовились к отправке на фронт трёхдюймовые пушки и минометные прицепные устройства. Так что, на счастье, все обошлось.
А потом взрослые возмущались: где наша хваленая оборона? Хоть бы рогатки, что ли, выдали для блезиру, а то выбросят десант и, безоружных, как хотят передушат.
Враг все ближе подходил к Сталинграду. В городе и на производстве готовили в подвалах бомбоубежища, строили укрытия, во дворах частного сектора рыли землянки, в оврагах устраивали щели, учили население затемнению, повсюду проверялись документы.
Теперь отец появился все реже. Сначала выходные предоставляли один раз в две недели, а к лету 1942 года они вовсе были отменены, и только в редких случаях, при выполнении участком доведенной программы, давали передышку на день-два.
Из разговора старших я слышал, что мой отец и оба его брата «забронированы». В моем представлении это означало, что их заковали в пуленепробиваемый панцирь по типу черепахи или вареного рака, и все мучился в догадках, а как же они работают в таком мундире, в такой тяжести? И однажды, не выдержав неопределенности, спросил у матери:
— Мама, а почему и нас не забронируют, как папу?
Вопрос ошеломил своей неожиданностью, и наконец, поняв, о чем я говорю, мама просияла:
— Наш папа очень нужен на заводе, и потому его пока на фронт не возьмут, здесь, в резерве, он принесет больше пользы. Вот его и берегут – как за бронью.
Братья сообща соорудили во дворе мизерное убежище – землянку, накрыли ее двойным накатом, устроили полки, лежанки, дверь обили железом. В доме под полом вырыли яму для хранения самых ценных и нужных вещей на случай пожара.
Многие семьи, не дожидаясь холодов, выехали за Волгу. Отец настаивал, чтобы и мы переехали в Пролейку, к маминым родным: все же там будет менее опасно, да и родственники не позволят умереть с голоду. Но бабушка Мотя со слезами упрекала и просила маму:
— Когда было хорошо, то жили все вместе, а когда мои дети в опасности, вы хотите бежать!
Мама решила остаться с детьми в Сталинграде и разделить общую участь.
Воскресное утро 23 августа 1942 года не предвещало ничего худого. Лишь слегка пробежал по дорожкам теплый дождичек, и опять проглянуло нежное солнышко.
Я и Люда оседлали качели, когда наша мама вышла на крыльцо в легком в трехцветную полоску ситцевом платьице, явно напоминавшим матросскую тельняшку, но с дополнительным сиреневым цветом между белым и голубым.
С ямочками на щеках, она улыбалась и вся дышала свежестью, а русые пепельные волосы струились на плечи невесомой волной.
У нас захватило дух – так красива была наша мама.
Мама собиралась в магазин, что находился возле мельницы Гергардта, у самой Волги. Я просился взять меня с собой, но она на этот раз как–то необычно оказались непреклонной, и я со слезами обиды остался с бабушкой.
По времени ей бы уже надо вернуться, началась массированная бомбежка города. Бомбили центр и Красные казармы, но это мы узнали потом, а сейчас казалось, что небо над нами раскололось пополам, а земля испуганно вздрагивает и конвульсивно дрожит, уходя из-под ног, готовая в каждую секунду провалиться в тартарары.
Стали слышны первые истеричные голоса женщин и детей, надрывный вой собак. Мощь взрывов нарастала и нарастала, все приближаясь и приближаясь. Я стоял как парализованный, в ожидании неизбежного.
Оцепеневшая на миг бабушка Мотя первой пришла в себя и сгребла в охапку годовалого Вовочку, делающего первые неумелые шаги по такому неустойчивому полу, другой рукой подхватила меня и мною же подталкивала закрывшую голову ладонями Людочку, направляя тем самым ко входу в землянку.
Первое боевое крещение сделало расстановку сил и на будущее: бабушка Мотя прикрывала своим телом маленького брата, хватала меня , а Люда, сжавшись в маленький и круглый комочек, вздрагивала при каждом взрыве и, закрывая руками уши, громко плакала и причитала:
— Папочка, мой папочка! Где ты, мой папочка?
Странно, но она всегда и потом в трудную минуту будет вспоминать отца.
Я же, как старший мужчина, держался самостоятельно и порывался выйти наружу и посмотреть, что там делается? Похоже, я еще не знаком был со страхом смерти. И в дальнейшем это все подтвердится. Я действительно не боялся взрывов до последних дней войны.
Моему мужеству не уступала и бабушка. Она беспрерывно молилась, а при каждом взрыве крестилась сама и крестила нас всех. Правда, это мероприятие было уже запоздалым, но такова человеческая психология.
Надрывный гул самолетов и вздрагивание земли превратились в сплошную дрожь, как при ознобе. Ходуном ходил двойной накат землянки и, казалось, готовился вот–вот рассыпаться нам на головы.
Уже Люда устала дрожать, а бабушка – молиться, лишь Вовочка умудрялся беззаботно спать на теплых руках с ангельской улыбкой на пухленьком личике. Зато я под суровым взглядом бабушки сидел на нарах обиженным, надув губы. И вот тогда мне пришла на память модная перед войной песня, но из нее я помнил только несколько слов:
— Смелого пуля боится, смелого штык не берет!
В дальнейшем этой песней я поддерживал боевой дух в наших слабых женщинах, и они (надо отдать им должное) никогда не запрещали мне ее исполнять.
Бомбежка продолжалась несколько часов. Но были небольшие промежутки затишья (возможно, у фашистов по распорядку был обед), которыми воспользовались бабушка и я. Бабушка – чтобы принести в землянку еду, воду и одежду для всех, а я, чтобы продемонстрировать, что война – дело мужское. Засунув руки далеко в карманы брюк, я самодовольно пел: «Смелого пуля боится».
Бабушка при каждом новом налете прицыкивала на меня, и я как бы нехотя входил в землянку.
Мамы не было уже много часов, и бабушка, в очередной раз прочитав молитву «Отче наш», приговаривала обреченно:
— Сиротиночки вы мои! Остались без родной матушки!
И снова неустанно молилась:
— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
И просила Заступницу всех матерей:
— Пресвятая Дева Мария! Спаси и сохрани, не дай погибнуть матери невинных душ!
Потом, на миг, вспомнив и о своих детях, не видавшая их уже несколько недель, просила мать Богородицу оставить в живых и ее «кровинушек».
Ко всему привыкает человек. Стали и мы привыкать к кошмарному грохоту, дрожащей в судорогах земле, ужасному скрипу живого наката, песку и пыли в глазах, во рту и ушах.
Далеко за полночь надрывные звуки тяжело груженных и низко летящих вражеских самолетов стали реже, взрывы бомб удалились. Наступило маленькое затишье.
В этот момент дверь землянки тихонько открылась , пахнуло ночной прохладой, терпкой гарью воздуха и на пороге возникла наша мама.
Она была встревоженной, но какой красивой! Пожалуй, самой красивой. Милой и желанной на всем белом свете, во всем мире!
Все с воплями бросились ей на шею, а бабушка, сияющая от нахлынувшего счастья, впервые вымоленного счастья у небес за всю ее вдовью жизнь, крестилась и приговаривала:
— Раечка! Раечка! Ты жива! Господи, Матушка-Богородица, ты услышала мою молитву, не дала погибнуть невинным и ангельским душам!
Когда страсти немного поулеглись, слезы, размазанные по серым щекам, обсохли, бабушка призналась:
— Раечка, прости меня, но ведь мы не думали увидеть тебя в живых!
С этими словами она припала к маминой груди и наконец-то дала волю выплакаться. А мама, немного успокоившись, рассказала, что было с ней.
Бомбежка застигла ее при выходе из магазина. Первой мыслью было — найти убежище! На счастье, оно было рядом, и энергичный мужчина с красной повязкой на рукаве зазывал застигнутых тревогой людей в подвал соседнего здания. Это было просторное помещение, и в нем уже находились сотни людей. Страх перед бомбежкой исчез при мысли о детях. При первом затишье попросила дежурного, чтобы ее выпустили.
— Грудного ребенка надо накормить,– умоляла она неприступного человека с повязкой, но он плотно закрыл дверь и не реагировал ни на какие просьбы. Только в полночь их выпустили из заточения, и к маме подпарилась совершенно незнакомая женщина– попутчица. По дороге домой снова попали под бомбежку, но страх за детей гнал вперед. Тесно прижавшись друг к другу, как родные, добежали до нашего дома. А попутчица скрылась в темноте, ибо ее путь лежал дальше.
В этой стороне, куда она ушла, раздался оглушительный взрыв, и все неожиданно стихло. Мама бросилась к месту взрыва, но там была громадная воронка, дымилась обуглившаяся земля.
Незнакомки нигде не оказалось, только во дворе напротив раздались жуткие крики. От взрыва, как выяснилось, погиб соседский мальчик 12 лет. Этот непоседа, ранее командующий потешной мелюзгой, поплатился своей жизнью. Единственный ребенок вдовствующей матери лежал у нее на коленях, запрокинув окровавленную голову.
Наутро его похоронили во дворе.
В эту ночь и последующие дни и ночи фашистские самолеты утюжили Сталинградскую землю, пытали на прочность мирных людей, и не только взрослых. Повсюду горели постройки, в любой момент мог загореться и наш дом. Деревянный и сухой, он вспыхнул бы порохом, и никто не успел бы из него выскочить. Надо было уходить в безопасное место.
Через несколько дней заявился отец со своим младшим братом Володей, чтобы построить щель в нефтесиндикатском овраге и перевести нас туда.
За двое суток на левой стороне оврага ими была выкопана щель размером 3 на 3 метра и высотой около 2 метров. Зеленая глина оврага блестела металлом на потолке. Наспех сколоченные топчаны должны были служить нам кроватями. Вход в убежище защищали наклонно стоящие жерди, а с краев оставались два узких прохода, завешанных старыми ватными одеялами.
Так мы перебрались на новое местожительство, которое для меня чуть не закончилось трагично. Прямо под нашей щелью была глубокая яма с водой, наполняемая маленьким ручейком, вытекающим из-под дамбы через водосточную трубу. Ручеек втекал и вытекал из ямы, пополняя запасы водой сомнительной свежести, так что от нее в любую погоду дурно попахивало. Как–то в очередное затишье сестренка сидела на корточках и мыла руки. Я решил ее немного попугать и выскочил из щели. Разогнавшись по склону, не мог остановиться, да еще поскользнулся на мокром – и бухнулся в воду. Испуганная Люда закричала на весь овраг:
— Гена тонет! Гена тонет!
А я и действительно уже хлебал противную жижу. Мои попытки всплыть были тщетными. Во-первых, я не имел понятия, как это делается, во-вторых, моя вмиг намокшая одежда превратилась в камень на шее. Но все равно инстинкт подсказывал бороться, уже перед глазами зарябили фонарики, вместо желаемого воздуха вливалась в легкие противная вода и тянула прямо на дно. Я видел испуганные глаза Людочки, слышал ее крики о помощи, но верил только в силу матери. Конечно, в этот миг я не мог рассуждать, но мозг не соглашался со смертью, и я, борясь из последних сил, выкрикнул, как мне показалось, довольно громко:
— Мама, мамочка, спаси!
Кто же еще спасет, если не мать? Мать – самое сильное существо на свете! Не знаю, чей крик она услышала раньше, но только в молниеносном прыжке она выхватила меня из мутной воды.
«Ну вот, — пронеслось в сознании, — не зря же я верил!» Позже, глядя на черную глубину ямы, мама, громко смеясь, удивлялась:
— А ведь я и плавать-то не умею!
Я немного помолчал, восхищенный маминым подвигом, наверное, соизмеримым с солдатским, а потом с глубоким убеждением, на полном серьезе произнес:
— Значит ты, мама, настоящий герой и моя песня тоже про тебя!
— Какая песня? — притворилась высокооценённая, как будто не знала, что эта военная песня у меня всего одна. Тут же я с готовностью, громко и выразительно не спел, а прочитал, как стих:
— Смелого пуля боится, смелого штык не берёт!