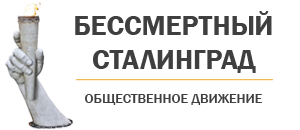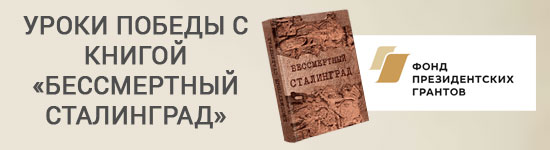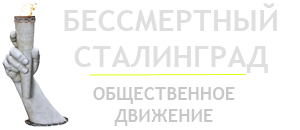Александра Низкопоклонная
Война в судьбе моей семьи
Я люблю смотреть наши старые семейные альбомы. Листаешь эти пожелтевшие от времени фотографии, на которых изображены твои далекие родственники, которых ты никогда не видел, и даже не верится, что они так же жили, любили, встречали рассвет и любовались закатом. А вот когда слушаешь бабушкины рассказы, картины их жизни как будто оживают. Вот она, моя бабуля Галинка, босоногая девчонка, бежит по крутой горинской горе к речке купаться, а это ее мама Аня, уставшая, возвращается с работы домой; сидит за уроками, склонившись у керосиновой лампы, брат Саша, а бабушка Поля принесла мелкой вареной картошки проголодавшейся ребятне. Как давно это было…
Мои предки по маминой линии жили здесь на донской земле с незапамятных времен. Составляя с мамой и бабушкой нашу родословную, я узнала, что мои прадеды воевали на всех войнах, которые вела Россия. А в мирное время растили хлеб, держали большое хозяйство, поэтому и жили зажиточно. В семье все работали, никто не бездельничал.
А сегодня я хочу написать о судьбе моей прабабушки Ермаковой Анны Даниловны.
Анна Даниловна родилась в далеком 1908 году в хуторе Горин Калачевского района, в семье казаков Свиридоновых Данила Илларионовича и Пелагеи Наумовны. С семилетнего возраста, не закончив и одного класса церковно-приходской школы и едва научившись писать и читать, она пошла работать. Пасла овец, коров, которых держал дед Илларион Савельевич. Ее отец погиб на войне 1914 года, они с мамой и маленькой сестренкой Татьяной остались на иждивении у деда и должны были ему помогать. Когда Анне исполнилось шестнадцать лет и она очень захотела учиться в городе на швею, отчим (мама вышла во второй раз замуж) поставил ее перед выбором: или приданое, или учеба. Бабушка выбрала учебу, так и оставшись бесприданницей. А умение шить не раз помогало ей в жизни, ой какой нелегкой…
В двадцать четыре года Анна встретила своего будущего мужа — Ермакова Марка Прохоровича, казака из хутора Колпачевский, у них родились дети — сын Александр (1934 г.р.) и дочь Галина (моя бабушка, 1938 г.р.). Жили сначала в городе, а потом переехали в хутор Горин, только построили домик — началась война.
Война!.. Это страшное слово, за которым столько слез, боли и страданий. Марк Прохорович был призван на войну осенью 1941 года, у нас есть фотография, на которой бабушка и дедушка, с другими хуторянами сфотографировались перед уходом на фронт. Это единственная фотография деда.

Первый в первом ряду слева направо — Марк Прохорович, во втором ряду — Анна Даниловна.
Анна была крепкой женщиной и почти не плакала, провожая мужа на войну, а что творилось у нее на душе, никто не знает…
Марк вместе с другими земляками попал в Дубовку, где формировались военные части и их обучали стрельбе. Через сослуживцев бабушка узнала, что ночью мимо нашей станции будет идти эшелон, в котором муж поедет на фронт. Несколько ночей она вместе с детьми и другими хуторянками ходила на станцию, а станция от хутора располагалась километрах в четырех. В ту ночь, когда шел эшелон, заболела и не пошла. Была уже зима, разыгралась вьюга. Соседка рассказывала, что он, проезжая мимо хутора, кричал: «Нюра, Шурка, Галя, прощайте!», а еще звал собаку: «Летчик, Летчик!» и собака услышала, сорвалась, залаяла и побежала за поездом… Погиб дед в октябре 1942 под Ростовом. Сослуживец, вернувшийся с войны, рассказывал, что Марк очень скучал по жене, детям, но не верил, что выживет. Бой, в котором погиб дед, был страшным. Их казачью кавалерию послали на танки, это было настоящее месиво, и земляк даже не смог найти тело Марка после боя…. А бабушке приснился сон, примерно в это же время, что будто бы в доме рухнула печь, она проснулась и заплакала, разбудив детей словами: «Ваш отец погиб!». Ведь печь в доме — это остов, на котором все и держится. Покачнулся тогда мир семьи Ермаковых, но не рухнул, благодаря Анне Даниловне.
Когда фронт подошел близко к хутору, начались бомбежки. Как только раздавался вой сирены, все домочадцы прятались в погребе, а овчарка Летчик самая первая! Однажды бомбежка началась внезапно, вся семья находилась в доме, бежать в погреб было уже поздно. Маленькая Галя сидела на сундуке, когда снаряд разорвался во дворе, взрослые успели только упасть на пол. Один осколок выбил стекло и, пролетев в окно у Гали над головой, пробил потолок дома, а другой попал в сундук и замотался в тряпье. Когда все очнулись Галя, все так же сидела на сундуке и плакала, вся спина у нее была в мелких стеклышках. Все кинулись к ней, не помня себя от радости, что она чудом осталась жива.
Когда немцы были уже близко, людям предложили эвакуироваться. Но никто не хотел, боялись, что дома разорят, разворуют все, да и многим некуда было идти… Хуторяне надеялись, что наши войска ненадолго уходят. Пришедшие фашисты устанавливали свои порядки, ходили по домам, забирали продукты, в домах вели себя как хозяева, заставляли работать в поле.
Во время оккупации Анне Даниловне было 33 года, она была очень красивой молодой женщиной: волосы черные, густые, брови вразлет, стройная, небольшого роста. Анна боялась, что фашисты над ней надругаются и укрывала лицо платком, одежду носила плохую. К ним тут же на квартиру пришел постоялец, немецкий офицер. Семья ютилась в теплушке, а он расположился в горнице. Каждый день, Анна твердила своим детям: «Смотрите не заходите к нему и ничего не берите». Галя и Саша были очень голодными и наблюдали за ним через щель, как он ел бутерброды с маслом и конфеты. Немец иногда жалел детей и угощал конфеткой. А вот собака Летчик его страшно невзлюбила, постоянно гавкала на него, кидалась, и он ее застрелил.
Моя бабушка Галя рассказывала: «Мы очень боялись фашистов, неизвестно, что было от них ждать в любой момент. Они были хозяевами наших жизней. Маму немцы выгоняли на работу в поле вместе с другими хуторянками. Она часто притворялась больной и говорила пришедшему звать на работу фашисту: «Кранк, кранк», и он не трогал ее.
Всего три месяца хутора были в оккупации, но очень долгими они показались нашим землякам. Расстрел мальчишек Босоногого гарнизона потряс жителей. Хутор Горин располагался рядом с Авериным, где жили юные партизаны. Фашисты в день расстрела сгоняли всех жителей к силосной яме, чтобы все видели, что будет с теми, кто вредит немецкой власти. Анна кое-как отказалась идти, притворившись больной. Страшно было за восьмилетнего сына Сашку.
Немцев прогнали с боем, люди плакали от радости, что унижения и страх остались позади. Но впереди еще были долгие два года войны… и голод, и холод, и отчаяние, и изнурительный труд. Но все это было ради Победы.
Как только фронт отошел от хутора, возобновились работы в колхозе. Анна с самого начала войны работала в колхозе имени Ворошилова. Было очень трудно. Сеяли пшеницу, рожь, косили вручную, молотили. Косили сено для колхозной скотины, ухаживали за животными. Заготавливали дрова и для дома, и для школы, и для конторы, да разве все перечислишь. А в колхозе одни лишь женщины, дети и старики.
С большим теплом вспоминала Анна председателя колхоза Семенова Никиту Устиновича.
Он, вернувшийся после ранения в родной хутор солдат, помогал им, труженицам тыла своим умелым руководством, мудрым советом, душевным теплом. И теперь спустя годы можно об этом сказать, благодаря Семенову они и не погибли от голода, и выжили вместе с детьми. Он закрывал глаза на то, что они иногда брали украдкой домой по горсти зерна и несли голодным детям. Хотя в то жуткое лихолетье, поступая так, он рисковал своей жизнью. Ведь тогда за работу в колхозе ничего не платили. Бабушка вспоминала случай, что однажды, возвращаясь с поля, женщины как обычно запели, а запели они грустную казачью песню о нелегкой женской доле:
Из-под тоненькой беленькой блузочки
Тяжело мому сердцу дышать…
А Никита Устинович, ехавший рядом, тяжело вдохнув, сказал: «Эх, бабоньки, бабоньки, да и получать-то вам за работу «из-под тоненькой беленькой блузочки»». Нечего им было получать. Вместе с бабушкой тогда трудились Попадейкина Маланья, Ляпичева Евдокия, Шевцова Галина, Бобрикова Анна, Дуданова Анна, Турченкова Василиса, Кохановская Анна и многие другие.
Трудно жилось людям в то лихолетье, и после войны не слаще. Бабушка вспоминала, как прибежал сын Шурка с криком: «Мамка, война замирилась!», как плакала и не поверила ему, побежала на улицу, где было всеобщее ликование и слезы. Вспоминала, как еще долго ее десятилетний сын подбегал ко всем идущим с войны солдатам, с криком «Папка!» И каждый раз возвращался домой в слезах…
Все это я знаю со слов моей бабушки Гали, которая о войне говорит только со слезами. Она так и не дождалась с войны своего папу, на которого так похожа…
А моя прабабушка Анна Даниловна всю жизнь была труженицей. После войны продолжала работать в колхозе, потом в Заготзерне, с другими женщинами вручную грузили вагоны с зерном, и ,уже будучи на пенсии работала на бахчах. Анна очень хотела, чтобы ее дети получили образование и не трудились так тяжело, как она. Ее мечта сбылась, сын Александр окончил горный институт, работал инженером, был директором шахты, дочь Галина работала медсестрой–лаборантом в Ляпичевской участковой больнице. Бабушка гордилась своими детьми. А дети любили свою маму и помогали ей. У нас хранится фотография Александра, на обороте которой он, солдат Советской Армии, написал: «Спасибо, тебе родная мама моя, что в такое нелегкое время человека во мне сберегла».
При жизни моей прабабушки Анны Даниловны были: Первая мировая война, революция, Гражданская война, Великая Отечественная война, много выпало на ее долю. Но она никогда не унывала, не жаловалась на жизнь, была, может быть, и скупой на ласку, но оптимистичной и веселой, любила шутить, любила петь казачьи песни. А рукодельница какая была: и шила, и вязала, и вышивала, и вкусно пекла. Вставала она рано, чтобы полюбоваться рассветом, а ложилась затемно, любила свой сад, в котором на зорьке пели для нее соловьи.
Именно такие женщины, как она, и есть тот остов, на котором держится держава, и что бы ни произошло, он никогда не рухнет!